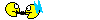Леди замка Джен
продолжение
Начало главы
Стиснув зубы, Челл трясла онемевшей рукой – когда она выдернула провод из затылка Уитли, из разъёма посыпались крупные ярко-синие искры, мстительно впившиеся ей в предплечье. Но эта боль оказалась ничем по сравнению с шоком от того, что она увидела...
Она попятилась от дивана и тяжело оперлась о стол.
…себя. Она увидела себя в его воспоминаниях. Себя, вне пределов собственной памяти. Она думала, что максимум, что ей стоит ожидать от подключения Уитли к ноутбуку – да и то, если очень повезёт – горстку каких-нибудь системных файлов, которые он время от времени упоминал. Вместо этого она получила такое, на что даже не думала рассчитывать.
Разумеется, Челл случалось видеть себя со стороны. Она не испытывала неловкости перед объективом – ей было по большей части всё равно, если только речь не шла об объективах неких весьма специфичных камер, направленных специально на неё с самыми недружелюбными намерениями – тогда она начинала испытывать разве что желание переколотить эти объективы вдребезги и, по возможности, именно так и поступала. Эдем, при всех коммуникационных сложностях, тем не менее, старался идти в ногу со временем – его технологическая оснащённость быть может, уступала более крупным городам, но у здешних обитателей имелись и камеры, и фотоаппараты и прочая бытовая видеоаппаратура. Челл хранила под лестницей громоздкий пожилой камкордер, однажды купленный у Гаррета в порыве вдохновения, а на кухонном столе рядом с глиняной уткой у неё стояла цифровая рамка, без конца проигрывающая одну и ту же последовательность кадров: она с Роми на городском празднике. Её подруга смеётся, всё снова и снова поправляет угрожающий соскользнуть венок из листьев плюща, а низ кадра оккупирован близнецами – сплошь сияющие ухмылки, и бумажные ленты, и восторженная собака.
Ей так же доводилось видеть себя со стороны без помощи зеркал, линз или фильтров, когда она, обойдя пару-другую фундаментальных законов физики, заглядывала в отверстия, прорубленные в пространстве и времени – лишь очень немногим доводилось испытывать подобное. Так что собственная внешность была ей совершенно не в новинку. Её до глубины души, до боли в сердце потрясло иное – без возврата ушедшее время. Женщина в воспоминаниях Уитли понятия не имела о кошмаре, уготованном ей будущим. Она понятия не имела, что однажды будет похищена – заживо проглочена и брошена в извращённый, стерильный, лишённый солнца мир, где господствует только закон выживания. Под рукавами незнакомого голубого свитера не было шрамов, ловкие маленькие руки, раскладывающие на офисном столе свёртки, не изуродованы ожогами и рубцами от шрапнели. Её разум не искалечен – она держится спокойно в этом тускло-белом, безликом, душащем офисном пространстве, она не вздрагивает, когда рядом урчит включённый ксерокс или под потолком раздаётся неживой металлический голос по системе громкой связи. Если бы они столкнулись лицом к лицу, женщина из воспоминаний Уитли наверняка удивилась бы седым прядям в её волосах, тёмным кругам под глазами и пронзительному жёсткому взгляду.
«Что с тобой случилось?»
Случился Комплекс. Случилась Наука. Случилась Она.
А теперь оказалось, что её догадка попала в цель – всё то же самое случилось и с ним. Уитли тоже, подобно ей, жертва Того Места. И всё-таки она меньше всего ожидала встречи со своим прошлым «я».
Медленно, с нехарактерной неловкостью, Челл на ощупь добрела до плетеного кресла и тяжело опустилась в него. Ни с того ни с сего, и без того гудящую голову пронзила ввинтившаяся в затылок сухая горячая боль.
Она… она была… она была-
-рада, что не работает здесь.
Здесь господствовал страх. Она чувствовала, она практически обоняла тягучий ужас, которым были охвачены все эти суетливые, серые рабочие пчёлки, склоняющиеся над своими столами в своих маленьких кабинках, крохотные винтики гигантского бездушного механизма. Страхом был отравлен каждый, даже учёные, эти яркие вспышки на фоне корпоративного единообразия, сверкающие, словно грани разбитого зеркала. Она знала, что рабочие пчёлки боятся учёных, и камер, глазеющих на них с каждого угла. А вот чего боятся учёные? Все они вечно куда-то торопились, им едва хватало времени на перекус. Интересно, они хоть изредка бывают дома?
Ей не нравились холодные цилиндры лифтов, словно падающие с нею на борту в этот тусклый механический улей со скоростью, от которой закладывало уши и захватывало сердце. Ей не нравилось стоять в офисе посреди всех этих напуганных людей с пустыми глазами, которые даже не смотрели на неё, не видели её, потому что давно разучились замечать что-то, помимо угрозы. Она знала – здесь творится что-то очень плохое, чего ей, постороннему человеку, никогда не постигнуть.
Об этом никто не говорил – во всяком случае, напрямую, вслух – но она была наблюдательна и сообразительна. К тому же, люди почему-то считают, что молчаливость – всё равно, что глухота – так что, кое-что она всё-таки почерпнула из перешёптываний на лестничных площадках, из надписей на стенах – полустёртых, но всё же различимых. Это место было заражено испуганным, болезненным равнодушием, люди радовались, когда беда случалась с кем-то, но не с ними, и всё же страшились, что в следующий раз настанет их очередь. Она ненавидела подолгу оставаться там, внизу, отчего её и без того колоссальная работоспособность повышалась в разы. Она прикладывала все зависящие от неё усилия, чтобы поскорее приблизить миг, когда лифт вынесет её на поверхность, и она снова сможет увидеть небо над головой.
Он был единственным, кто несколько примирял её с необходимостью бывать в этом унылом царстве. Подобно всем остальным, он боялся. Кроме того, в её присутствии он был неуклюж и мучительно застенчив (а может, это было его обычным состоянием). Зато он всегда светился искренностью и жизнелюбием, и смотрел не сквозь, а на неё, как на живого человека. Он всегда покупал одно и то же, у него всегда была сумма под расчёт – и он всё порывался что-то сказать, но словно бы не осмеливался. А она, чтобы смягчить взаимную неловкость, каждый раз улыбалась ему, прежде чем повернуться к следующему покупателю. Так оно и шло все эти несколько месяцев их знакомства. Она пришла к выводу, что если то, что он хочет сказать ей – действительно важно, то рано или поздно он решится.
Она так и не дождалась.
Однажды он просто не вышел к столику у ксерокса. Распродав выпечку, она взяла опустевшую коробку и направилась вдоль серых рядов к кабинке, в которой, как она знала, он работал. Она оставила бублик на столе, аккурат между клавиатурой и игрушечной птичкой, и с любопытством оглядела крохотный захламленный закуток. Ничего необычного: календарь на стене, пара фотографий, внушительная лавина из бумаг, памяток и технической документации.
-Можешь не трудиться, - прозвучало со стороны кабинки напротив. Заговоривший сидел неподвижно, спиной к ней, лицом к монитору. Оборачиваться не стал. – Стёрт. Удалён. На следующей неделе сюда посадят кого-нибудь ещё. А может, и нет. Это уж как они решат.
Она заметила, что монитор выключен.
-Лучше не вникать, - всё тем же бесцветным голосом продолжал человек. – Извини. У меня сроки...
Она направилась к выходу, а потом всю оставшуюся неделю перед уходом оставляла последний бублик у него на столе, но бесцветный голос оказался прав – он больше не вернулся. Через неделю в кабинке не осталось ничего из его вещей – только кресло и компьютер. Внутри оказался какой-то незнакомец с серым лицом и пустыми глазами, глядевшими сквозь неё.
В тот день ей особенно сильно хотелось выбраться на поверхность. Она мысленно поторапливала лифт и чувствовала, что внутри что-то сжимается, и облегчение, когда она всё-таки покинула это место, оказалось ярче, чем обычно – волна радости, смешанной с тоскливой горечью.
О, как же она была рада, что не работает здесь.
Челл вскочила, точно выныривая из омута, и старый дощатый пол под ногами издал кошмарный звук сродни воплю раненой рыси.
Уитли тихонько застонал и зашевелился, покрепче прижав колени к груди и схватившись за затылок. Челл инстинктивно бросила кабель и вместе с ноутбуком затолкала его ногой под диван.
Её трясло, в ушах стоял звон, голова гудела от шока. До сих пор она не вспоминала – не могла вспомнить – ничего из своей жизни ДО. Она считала, что та её часть давно мертва – убита долгими десятилетиями стазиса, полностью разрушена травмами и убийственным влиянием Комплекса.
То, что она только что испытала, поначалу показалось ей чужеродными мыслями какой-то незнакомки, вспоминающей о месте, где она ни разу не была. Но всё-таки, незнакомкой была она и не кто иной. И воспоминание принадлежало только ей, ей одной, оно было частью её прошлого. Неуловимое, размытое, исчезающее – но она ухватилась за него, как за соломинку, за эту память о настороженном, неопределённом страхе, о сером офисе и серых людях – и об одной тревожной, светлой улыбке...
Уитли. Теперь всё стало на свои места, когда все детали головоломки оказались у неё на руках. Аватар не был ни случайным, но странно подходящим ему корпусом, ни представлением компьютера о некоей абстрактной, идеальной для него внешности, ни очкастым аналогом темы для рабочего стола. Это была его собственная цифровая копия, скульптура из твёрдого света. Всё верно – когда-то давным-давно у него было настоящее тело из плоти и крови. Человеческое тело.
Когда-то Уитли был человеком.
Не смотря на все причиняемые ему неудобства и явный дискомфорт, это тело действительно принадлежало ему. В каком-то смысле, оно было роднее металлического шарика, в котором он, впрочем, провёл неопределённо большое количество лет – по меньшей мере всё то время, что она проспала в Центре Релаксации, а она до сих пор понятия не имела, как долго это длилось.
Так сколько же ему лет? На вид где-то поровну между тридцатью и сорока; если всмотреться, то станут заметны озабоченные морщинки на переносице, и тонкие напряжённые линии, бегущие от крыльев носа к уголкам рта, и усталые круги под запавшими глазами – признаки, выдающие преодолённый тридцатипятилетний рубеж. Хотя, теперь-то какая разница? У роботов нет возраста. Солнечный свет не стареет.
Челл пихнула ногой выползшую из-под дивана петлю кабеля. На неё накатила волна клаустрофобии, и ей вдруг стало невыносимо душно и тесно в её маленьком безопасном убежище.
Как правило, она всегда сохраняла кристальную ясность мышления, всегда знала что и для чего делает. Все её побуждения и мотивы были систематизированы и разложены по полочкам, словно файлы в особо точной картотеке. Она не привыкла к путанице и замешательству, и потому ей необходимо было отдышаться после подобного потрясения, рассортировать впечатления – прийти в себя.
Ещё она поняла, что ей страшно хочется поговорить с ним – обсудить случившееся, рассказать об увиденном, глубже исследовать эту внезапно обнаруженную хрупкую связь, возникшую между ними неизвестно когда – и разве не этого она добивалась? Разве не для этого всё затеяла? Разве не хотела она найти доказательства того, что Уитли – нечто большее, чем продукт «Эперчур Сайенс»? Челл протянула руку, чтобы потрясти его за плечо – и замерла.
Вспомнит ли он? Поверит ли? Сам он безнадёжный лгунишка, и всегда с готовностью, достойной лучшего применения, отвергает неподходящую для своего мировоззрения истину, наотрез отказываясь верить в нечто, что ему не по нраву. Челл вдруг поняла, что не хочет слышать, как он будет объяснять на свой лад это – даже не воспоминание, а тень воспоминания. Отрицать прошлое, которое они оба потеряли.
Раз в жизни, у неё был выбор.
Она бесшумно отошла и направилась к двери, сдёрнув старую фланелевую рубашку с гвоздя, заменяющего вешалку. Она с удовольствием позвала бы его с собой, чтобы побыть в его компании и окунуться в поток его успокаивающей болтовни, если бы не эта неуверенность в его реакции. Подставлять под возможный удар зыбкое видение былого и свои чувства... нет, к этому она была не готова. В этом смысле она ему и близко не доверяла.
Проблема заключалась в том – а подобный нелогичный импульс не мог не быть проблемой для человека столь логичного и разумного – проблема заключалась в том, что ей действительно очень хотелось, чтобы было иначе.
Ему снился сон.
Когда оборвалась связь со странным, настырным запросно-ответным устройством, не принадлежащим «Эперчур Сайенс», его мысли и воспоминания бросились вскачь и врассыпную, повлекли за собой по давно забытым, вытесненным из сознания тропам в омут скрытых корневых каталогов, сквозь завесу повреждённых фрагментарных файлов. Навстречу неслись обрывки звуков, и картинки, и ощущения и...
…боль.
Голоса.
-…шесть миллиграммов пентотала, быстрее. Есть двигательная реакция.
-…так, успокойся, постарайся расслабиться, будет немного больно…
«Немного». Это было всё, что угодно, только не «немного». Боль была адская, кошмарная, неимоверная, и он не мог понять – за что? За что с ним так? Он ведь не сделал ничего плохого!
-…а чем он такой особенный? В деле написано, что это просто какой-то программист из информационно-технического.
-Шутишь? Ты его письма читал? Говорит, нужно демонтировать генераторы, чтоб было место для бадминтонного корта! И это только навскидку, у него подобных кретинских идей сотни тысяч.
-...то, что надо...
-...чтобы отвлечь Её...
Тьма – как сплошная непроницаемая стена черноты. Потом голоса возвращаются, с ними возвращается боль. То, что они колют ему, не помогает, но он не может сказать им, потому что горло... что-то не так с его горлом, и с его ртом, он не может говорить...
-…да кому какая разница. В криогенную камеру, как остальных.
-…угомоните его, а то потеряем церебральные функции к чертям...
-…калибровка...
Голос снова с ним, но всё равно что-то не так, нет – всё не так, и единственное, чего ему хочется...
-Боже правый, да заткните же его, уши закладывает...
А теперь ещё и это. Нет, это не боль. Это хуже, чем боль – невыносимое, стремительное рвущее на части опустошение. Оно жадно отдирает огромные, важные куски от его личности и выбрасывает их, как ненужные осколки разбитого стекла в темноту. А стоит им кануть в холодное небытие, как он забывает о том, что они вообще были, он не знает, что они были, потому что теперь их нет, и единственная мысль – «пожалуйста пожалуйста пожалуйста нет нет нет Я хочу домой пустите меня пожалуйста отпустите». Но дома больше нет, он не знает, что или где это. И в итоге всё, что он может – направлять в пустоту бессмысленную, бессвязную, безнадёжную литанию «я должен выбраться я должен выбраться я должен я…»
-…уже третий раз! Недели работы псу под хвост! Это уже ни в какие ворота... Зачем нам всё это? Всё, что от него требуется – говорить и продуцировать идиотские идеи.
-...разве что глубокая эксцизия, полное подавление воспоминаний...
-…перемаршрутизация когнитивных процессов...
-Делайте.
А потом...
Темнота. Пустое, блаженное ничто. Лёгчайший, едва уловимый след какого-то воспоминания – что-то забытое, что обязательно надо было сделать... Но после пережитого мрачного кошмара он вовсе не хотел вспоминать – даже пытаться не хотел. Лучше не знать. Лучше не знать вообще ничего. Не думать. Не мучиться. Не быть.
-Вроде сработало. Отключайте.
[ОШИБКА: ФАЙЛ ПОВРЕЖДЁН][СОХРАНЕНИЕ][ПЕРЕЗАГРУЗКА]
-НЕТ! НетнетнетнетнетнетНЕТ!
Кто-то кричал.
Темнота уже не была абсолютной – бездонная пустота превратилась в маленькую тёплую комнату с тусклыми янтарными бликами ночной иллюминации на стенах и витающим в воздухе запахом хлеба. Но Уитли она показалась чужой и незнакомой – равно как и собственный голос.
-Это всё неправда! Это неправда!
Его тело сотрясали судороги, он сжимал ладонями виски и срывающимся голосом бессвязно бормотал, заклинал, отрицал. Разум искрился, точно оборванный провод под напряжением, тонул в цунами серого, безымянного ужаса, мысли пульсировали болезненно, как корень обломанного зуба, и он перекатился на плетёный коврик, судорожно сжав ветхую материю в кулаке, и издал оглушительный вопль – долгий, бессловесный рёв отчаяния и ярости.
Большую часть жизни он провёл, подозревая, что с ним что-то не вполне ладно. Он никогда не признавал этого – не говоря уж о том, чтобы как-то разобраться с этим вопросом – но где-то в глубине души он это знал. Так всегда утверждала маленькая несговорчивая часть его разума, которая вместо того, чтобы закрывать глаза на его промахи, с садистским тщанием вела им подсчёт. Он эту часть себя ненавидел, делал вид, что её не существует и предпочитал жить за счёт своего неиссякаемого оптимизма, спонтанно вскипающего энтузиазма и полнейшей неспособности отличить хорошую идею от плохой. И в те минуты, когда в нём просыпалось не свойственное ему критическое мышление, когда даже он приходил в уныние от бесконечного парада сотворённых катастроф, он находил утешение в том, что это всё не его вина. Его создали с какой-то полезной целью, и однажды он выяснит, в чём его предназначение. И уж когда он выяснит – то будьте спокойны, он не подведёт. Они ведь сказали, что он совершенство! Всё будет...
Уитли снова свернулся в клубок, не выпуская коврика из рук и коротко, порывисто раскачиваясь. Глубоко в затылке засела неприятная тянущая боль.
Белые халаты. Больной долговязый фикус, тоскующий по солнечному свету в царстве тусклых флуоресцентных ламп. Вода на белых плитках. Блеск иглы. Яркий бумажный комок, смятый в ладони. И… и...
-Нет… нетнетнетнет, пожалуйста...
Теперь всё стало на свои места. Всё обрело смысл. Это правда. Да Она ведь ему человеческим языком сказала, а он отказывался слушать, снова и снова пропускал Её слова мимо ушей, предпочитая считать их очередной наглой ложью.
«Ты дурак, которого они сконструировали, чтобы сделать меня идиоткой».
О, он превосходно годился для этой работы, не так ли? И всё же недостаточно хорош, чтобы в ней преуспеть, где уж ему! Стоит ли удивляться, что он не справился с Комплексом, хотя власть и могущество были преподнесены ему на блюдечке? Стоит ли удивляться, что он даже теперь ни на что не способен, что он просто болтается тут без цели среди людей...
-Но почему, почему?! Так нечестно! Они... Они сказали, что я… Они подарили мне наклейку!
Они наврали.
И он ничего не хотел об этом знать, но даже для этого было слишком поздно. Он всё понял. Он даже не настоящий робот, как другие модули, как Кевин, как Она. И он не человек. Он никто. Создан быть бесполезным, отвлекать, мешать и путать. Пригоршня песка, брошенная в высокоточный механизм совершенной машины.
Модуль Смягчения Интеллекта. Специально сконструированный паразит, тормозящий любого, к кому он подключён. Опухоль, мешающая мыслительному процессу нескончаемой болтовнёй и потоком дурацких идей. Ужасней всего то, что человек из его воспоминаний – тот, который говорил его голосом и выглядел точь-в-точь, как теперешний аватар – он ведь в части понимания мира тоже был далеко не гений– не Эйнштейн, не Хокинг, не… не Челл – но он был самим собой, он был полноценным, и в нём било через край это необузданное человеческое «почему бы нет?» Он творил всякие сумасшедшие вещи просто потому, что ему хотелось их творить. Уитли ненавидел его, о, как же он его ненавидел, этого самодовольного гада с его лицом, человека, чьи воспоминания блуждали в его подсознании и пробирались в сновидения, одним своим присутствием словно глумясь над ним теперешним – подделкой, нелепой пародией.
Он перевернулся, вытянувшись на коврике. Коврик был хороший, плоский, удобный и успокаивающий. Можно было не бояться понизить его интеллектуальный уровень. Сколько там у коврика мыслительных способностей... Наверняка он не посчитает Уитли обузой и, не испытывая особых неудобств, продолжит исправно выполнять свои ковровые функции. И если Уитли пообещает вести себя тихо, то коврик, может, разрешит ему остаться. Так они и будут лежать – покуда коврик не перестанет быть ковриком. Или пока Уитли не перестанет быть собой.
Последнее предпочтительнее.
По прошествии неясного промежутка времени Уитли ощутил некий дискомфорт. Что-то упёрлось ему в лопатку, усугубляя навязчивую необъяснимую боль в затылке. Он вяло пошарил под диваном и нащупал плоский металлический прямоугольный предмет... а ещё – петлю чего-то гибкого и длинного, выскользнувшего из-под дивана, когда он терзал коврик. Он обернулся, приподнявшись на локте, чтобы взглянуть на источник своего беспокойства – и изумлённо вытаращил глаза.
За последнее время Уитли во многом разуверился. Когда-то он был уверен, что застрял в космосе на веки вечные, или что он никогда не сумеет передвигаться без направляющего рельса или посторонней помощи – расставаться с такого рода убеждениями сплошное удовольствие. И напротив, потерять всякие основания верить, что он может приносить пользу хоть на каком-нибудь поприще, или что в итоге всё будет хорошо – попросту невыносимо. Но, тем не менее, на свете ещё оставалось нечто, в чём он был абсолютно уверен: аппаратный интерфейс «Эперчур Сайенс» он узнает с первого взгляда.
Медленно, как сомнамбула, он протянул руку и выудил из-под дивана чёрно-белый трёхштырьковый соединительный кабель.
Следующая глава
Начало главы
()~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~()
Стиснув зубы, Челл трясла онемевшей рукой – когда она выдернула провод из затылка Уитли, из разъёма посыпались крупные ярко-синие искры, мстительно впившиеся ей в предплечье. Но эта боль оказалась ничем по сравнению с шоком от того, что она увидела...
Она попятилась от дивана и тяжело оперлась о стол.
…себя. Она увидела себя в его воспоминаниях. Себя, вне пределов собственной памяти. Она думала, что максимум, что ей стоит ожидать от подключения Уитли к ноутбуку – да и то, если очень повезёт – горстку каких-нибудь системных файлов, которые он время от времени упоминал. Вместо этого она получила такое, на что даже не думала рассчитывать.
Разумеется, Челл случалось видеть себя со стороны. Она не испытывала неловкости перед объективом – ей было по большей части всё равно, если только речь не шла об объективах неких весьма специфичных камер, направленных специально на неё с самыми недружелюбными намерениями – тогда она начинала испытывать разве что желание переколотить эти объективы вдребезги и, по возможности, именно так и поступала. Эдем, при всех коммуникационных сложностях, тем не менее, старался идти в ногу со временем – его технологическая оснащённость быть может, уступала более крупным городам, но у здешних обитателей имелись и камеры, и фотоаппараты и прочая бытовая видеоаппаратура. Челл хранила под лестницей громоздкий пожилой камкордер, однажды купленный у Гаррета в порыве вдохновения, а на кухонном столе рядом с глиняной уткой у неё стояла цифровая рамка, без конца проигрывающая одну и ту же последовательность кадров: она с Роми на городском празднике. Её подруга смеётся, всё снова и снова поправляет угрожающий соскользнуть венок из листьев плюща, а низ кадра оккупирован близнецами – сплошь сияющие ухмылки, и бумажные ленты, и восторженная собака.
Ей так же доводилось видеть себя со стороны без помощи зеркал, линз или фильтров, когда она, обойдя пару-другую фундаментальных законов физики, заглядывала в отверстия, прорубленные в пространстве и времени – лишь очень немногим доводилось испытывать подобное. Так что собственная внешность была ей совершенно не в новинку. Её до глубины души, до боли в сердце потрясло иное – без возврата ушедшее время. Женщина в воспоминаниях Уитли понятия не имела о кошмаре, уготованном ей будущим. Она понятия не имела, что однажды будет похищена – заживо проглочена и брошена в извращённый, стерильный, лишённый солнца мир, где господствует только закон выживания. Под рукавами незнакомого голубого свитера не было шрамов, ловкие маленькие руки, раскладывающие на офисном столе свёртки, не изуродованы ожогами и рубцами от шрапнели. Её разум не искалечен – она держится спокойно в этом тускло-белом, безликом, душащем офисном пространстве, она не вздрагивает, когда рядом урчит включённый ксерокс или под потолком раздаётся неживой металлический голос по системе громкой связи. Если бы они столкнулись лицом к лицу, женщина из воспоминаний Уитли наверняка удивилась бы седым прядям в её волосах, тёмным кругам под глазами и пронзительному жёсткому взгляду.
«Что с тобой случилось?»
Случился Комплекс. Случилась Наука. Случилась Она.
А теперь оказалось, что её догадка попала в цель – всё то же самое случилось и с ним. Уитли тоже, подобно ей, жертва Того Места. И всё-таки она меньше всего ожидала встречи со своим прошлым «я».
Медленно, с нехарактерной неловкостью, Челл на ощупь добрела до плетеного кресла и тяжело опустилась в него. Ни с того ни с сего, и без того гудящую голову пронзила ввинтившаяся в затылок сухая горячая боль.
Она… она была… она была-
()~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~()
-рада, что не работает здесь.
Здесь господствовал страх. Она чувствовала, она практически обоняла тягучий ужас, которым были охвачены все эти суетливые, серые рабочие пчёлки, склоняющиеся над своими столами в своих маленьких кабинках, крохотные винтики гигантского бездушного механизма. Страхом был отравлен каждый, даже учёные, эти яркие вспышки на фоне корпоративного единообразия, сверкающие, словно грани разбитого зеркала. Она знала, что рабочие пчёлки боятся учёных, и камер, глазеющих на них с каждого угла. А вот чего боятся учёные? Все они вечно куда-то торопились, им едва хватало времени на перекус. Интересно, они хоть изредка бывают дома?
Ей не нравились холодные цилиндры лифтов, словно падающие с нею на борту в этот тусклый механический улей со скоростью, от которой закладывало уши и захватывало сердце. Ей не нравилось стоять в офисе посреди всех этих напуганных людей с пустыми глазами, которые даже не смотрели на неё, не видели её, потому что давно разучились замечать что-то, помимо угрозы. Она знала – здесь творится что-то очень плохое, чего ей, постороннему человеку, никогда не постигнуть.
Об этом никто не говорил – во всяком случае, напрямую, вслух – но она была наблюдательна и сообразительна. К тому же, люди почему-то считают, что молчаливость – всё равно, что глухота – так что, кое-что она всё-таки почерпнула из перешёптываний на лестничных площадках, из надписей на стенах – полустёртых, но всё же различимых. Это место было заражено испуганным, болезненным равнодушием, люди радовались, когда беда случалась с кем-то, но не с ними, и всё же страшились, что в следующий раз настанет их очередь. Она ненавидела подолгу оставаться там, внизу, отчего её и без того колоссальная работоспособность повышалась в разы. Она прикладывала все зависящие от неё усилия, чтобы поскорее приблизить миг, когда лифт вынесет её на поверхность, и она снова сможет увидеть небо над головой.
Он был единственным, кто несколько примирял её с необходимостью бывать в этом унылом царстве. Подобно всем остальным, он боялся. Кроме того, в её присутствии он был неуклюж и мучительно застенчив (а может, это было его обычным состоянием). Зато он всегда светился искренностью и жизнелюбием, и смотрел не сквозь, а на неё, как на живого человека. Он всегда покупал одно и то же, у него всегда была сумма под расчёт – и он всё порывался что-то сказать, но словно бы не осмеливался. А она, чтобы смягчить взаимную неловкость, каждый раз улыбалась ему, прежде чем повернуться к следующему покупателю. Так оно и шло все эти несколько месяцев их знакомства. Она пришла к выводу, что если то, что он хочет сказать ей – действительно важно, то рано или поздно он решится.
Она так и не дождалась.
Однажды он просто не вышел к столику у ксерокса. Распродав выпечку, она взяла опустевшую коробку и направилась вдоль серых рядов к кабинке, в которой, как она знала, он работал. Она оставила бублик на столе, аккурат между клавиатурой и игрушечной птичкой, и с любопытством оглядела крохотный захламленный закуток. Ничего необычного: календарь на стене, пара фотографий, внушительная лавина из бумаг, памяток и технической документации.
-Можешь не трудиться, - прозвучало со стороны кабинки напротив. Заговоривший сидел неподвижно, спиной к ней, лицом к монитору. Оборачиваться не стал. – Стёрт. Удалён. На следующей неделе сюда посадят кого-нибудь ещё. А может, и нет. Это уж как они решат.
Она заметила, что монитор выключен.
-Лучше не вникать, - всё тем же бесцветным голосом продолжал человек. – Извини. У меня сроки...
Она направилась к выходу, а потом всю оставшуюся неделю перед уходом оставляла последний бублик у него на столе, но бесцветный голос оказался прав – он больше не вернулся. Через неделю в кабинке не осталось ничего из его вещей – только кресло и компьютер. Внутри оказался какой-то незнакомец с серым лицом и пустыми глазами, глядевшими сквозь неё.
В тот день ей особенно сильно хотелось выбраться на поверхность. Она мысленно поторапливала лифт и чувствовала, что внутри что-то сжимается, и облегчение, когда она всё-таки покинула это место, оказалось ярче, чем обычно – волна радости, смешанной с тоскливой горечью.
О, как же она была рада, что не работает здесь.
()~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~()
Челл вскочила, точно выныривая из омута, и старый дощатый пол под ногами издал кошмарный звук сродни воплю раненой рыси.
Уитли тихонько застонал и зашевелился, покрепче прижав колени к груди и схватившись за затылок. Челл инстинктивно бросила кабель и вместе с ноутбуком затолкала его ногой под диван.
Её трясло, в ушах стоял звон, голова гудела от шока. До сих пор она не вспоминала – не могла вспомнить – ничего из своей жизни ДО. Она считала, что та её часть давно мертва – убита долгими десятилетиями стазиса, полностью разрушена травмами и убийственным влиянием Комплекса.
То, что она только что испытала, поначалу показалось ей чужеродными мыслями какой-то незнакомки, вспоминающей о месте, где она ни разу не была. Но всё-таки, незнакомкой была она и не кто иной. И воспоминание принадлежало только ей, ей одной, оно было частью её прошлого. Неуловимое, размытое, исчезающее – но она ухватилась за него, как за соломинку, за эту память о настороженном, неопределённом страхе, о сером офисе и серых людях – и об одной тревожной, светлой улыбке...
Уитли. Теперь всё стало на свои места, когда все детали головоломки оказались у неё на руках. Аватар не был ни случайным, но странно подходящим ему корпусом, ни представлением компьютера о некоей абстрактной, идеальной для него внешности, ни очкастым аналогом темы для рабочего стола. Это была его собственная цифровая копия, скульптура из твёрдого света. Всё верно – когда-то давным-давно у него было настоящее тело из плоти и крови. Человеческое тело.
Когда-то Уитли был человеком.
Не смотря на все причиняемые ему неудобства и явный дискомфорт, это тело действительно принадлежало ему. В каком-то смысле, оно было роднее металлического шарика, в котором он, впрочем, провёл неопределённо большое количество лет – по меньшей мере всё то время, что она проспала в Центре Релаксации, а она до сих пор понятия не имела, как долго это длилось.
Так сколько же ему лет? На вид где-то поровну между тридцатью и сорока; если всмотреться, то станут заметны озабоченные морщинки на переносице, и тонкие напряжённые линии, бегущие от крыльев носа к уголкам рта, и усталые круги под запавшими глазами – признаки, выдающие преодолённый тридцатипятилетний рубеж. Хотя, теперь-то какая разница? У роботов нет возраста. Солнечный свет не стареет.
Челл пихнула ногой выползшую из-под дивана петлю кабеля. На неё накатила волна клаустрофобии, и ей вдруг стало невыносимо душно и тесно в её маленьком безопасном убежище.
Как правило, она всегда сохраняла кристальную ясность мышления, всегда знала что и для чего делает. Все её побуждения и мотивы были систематизированы и разложены по полочкам, словно файлы в особо точной картотеке. Она не привыкла к путанице и замешательству, и потому ей необходимо было отдышаться после подобного потрясения, рассортировать впечатления – прийти в себя.
Ещё она поняла, что ей страшно хочется поговорить с ним – обсудить случившееся, рассказать об увиденном, глубже исследовать эту внезапно обнаруженную хрупкую связь, возникшую между ними неизвестно когда – и разве не этого она добивалась? Разве не для этого всё затеяла? Разве не хотела она найти доказательства того, что Уитли – нечто большее, чем продукт «Эперчур Сайенс»? Челл протянула руку, чтобы потрясти его за плечо – и замерла.
Вспомнит ли он? Поверит ли? Сам он безнадёжный лгунишка, и всегда с готовностью, достойной лучшего применения, отвергает неподходящую для своего мировоззрения истину, наотрез отказываясь верить в нечто, что ему не по нраву. Челл вдруг поняла, что не хочет слышать, как он будет объяснять на свой лад это – даже не воспоминание, а тень воспоминания. Отрицать прошлое, которое они оба потеряли.
Раз в жизни, у неё был выбор.
Она бесшумно отошла и направилась к двери, сдёрнув старую фланелевую рубашку с гвоздя, заменяющего вешалку. Она с удовольствием позвала бы его с собой, чтобы побыть в его компании и окунуться в поток его успокаивающей болтовни, если бы не эта неуверенность в его реакции. Подставлять под возможный удар зыбкое видение былого и свои чувства... нет, к этому она была не готова. В этом смысле она ему и близко не доверяла.
Проблема заключалась в том – а подобный нелогичный импульс не мог не быть проблемой для человека столь логичного и разумного – проблема заключалась в том, что ей действительно очень хотелось, чтобы было иначе.
()~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~()
Ему снился сон.
Когда оборвалась связь со странным, настырным запросно-ответным устройством, не принадлежащим «Эперчур Сайенс», его мысли и воспоминания бросились вскачь и врассыпную, повлекли за собой по давно забытым, вытесненным из сознания тропам в омут скрытых корневых каталогов, сквозь завесу повреждённых фрагментарных файлов. Навстречу неслись обрывки звуков, и картинки, и ощущения и...
…боль.
Голоса.
-…шесть миллиграммов пентотала, быстрее. Есть двигательная реакция.
-…так, успокойся, постарайся расслабиться, будет немного больно…
«Немного». Это было всё, что угодно, только не «немного». Боль была адская, кошмарная, неимоверная, и он не мог понять – за что? За что с ним так? Он ведь не сделал ничего плохого!
-…а чем он такой особенный? В деле написано, что это просто какой-то программист из информационно-технического.
-Шутишь? Ты его письма читал? Говорит, нужно демонтировать генераторы, чтоб было место для бадминтонного корта! И это только навскидку, у него подобных кретинских идей сотни тысяч.
-...то, что надо...
-...чтобы отвлечь Её...
Тьма – как сплошная непроницаемая стена черноты. Потом голоса возвращаются, с ними возвращается боль. То, что они колют ему, не помогает, но он не может сказать им, потому что горло... что-то не так с его горлом, и с его ртом, он не может говорить...
-…да кому какая разница. В криогенную камеру, как остальных.
-…угомоните его, а то потеряем церебральные функции к чертям...
-…калибровка...
Голос снова с ним, но всё равно что-то не так, нет – всё не так, и единственное, чего ему хочется...
-Боже правый, да заткните же его, уши закладывает...
А теперь ещё и это. Нет, это не боль. Это хуже, чем боль – невыносимое, стремительное рвущее на части опустошение. Оно жадно отдирает огромные, важные куски от его личности и выбрасывает их, как ненужные осколки разбитого стекла в темноту. А стоит им кануть в холодное небытие, как он забывает о том, что они вообще были, он не знает, что они были, потому что теперь их нет, и единственная мысль – «пожалуйста пожалуйста пожалуйста нет нет нет Я хочу домой пустите меня пожалуйста отпустите». Но дома больше нет, он не знает, что или где это. И в итоге всё, что он может – направлять в пустоту бессмысленную, бессвязную, безнадёжную литанию «я должен выбраться я должен выбраться я должен я…»
-…уже третий раз! Недели работы псу под хвост! Это уже ни в какие ворота... Зачем нам всё это? Всё, что от него требуется – говорить и продуцировать идиотские идеи.
-...разве что глубокая эксцизия, полное подавление воспоминаний...
-…перемаршрутизация когнитивных процессов...
-Делайте.
А потом...
Темнота. Пустое, блаженное ничто. Лёгчайший, едва уловимый след какого-то воспоминания – что-то забытое, что обязательно надо было сделать... Но после пережитого мрачного кошмара он вовсе не хотел вспоминать – даже пытаться не хотел. Лучше не знать. Лучше не знать вообще ничего. Не думать. Не мучиться. Не быть.
-Вроде сработало. Отключайте.
[ОШИБКА: ФАЙЛ ПОВРЕЖДЁН][СОХРАНЕНИЕ][ПЕРЕЗАГРУЗКА]
()~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~()
-НЕТ! НетнетнетнетнетнетНЕТ!
Кто-то кричал.
Темнота уже не была абсолютной – бездонная пустота превратилась в маленькую тёплую комнату с тусклыми янтарными бликами ночной иллюминации на стенах и витающим в воздухе запахом хлеба. Но Уитли она показалась чужой и незнакомой – равно как и собственный голос.
-Это всё неправда! Это неправда!
Его тело сотрясали судороги, он сжимал ладонями виски и срывающимся голосом бессвязно бормотал, заклинал, отрицал. Разум искрился, точно оборванный провод под напряжением, тонул в цунами серого, безымянного ужаса, мысли пульсировали болезненно, как корень обломанного зуба, и он перекатился на плетёный коврик, судорожно сжав ветхую материю в кулаке, и издал оглушительный вопль – долгий, бессловесный рёв отчаяния и ярости.
Большую часть жизни он провёл, подозревая, что с ним что-то не вполне ладно. Он никогда не признавал этого – не говоря уж о том, чтобы как-то разобраться с этим вопросом – но где-то в глубине души он это знал. Так всегда утверждала маленькая несговорчивая часть его разума, которая вместо того, чтобы закрывать глаза на его промахи, с садистским тщанием вела им подсчёт. Он эту часть себя ненавидел, делал вид, что её не существует и предпочитал жить за счёт своего неиссякаемого оптимизма, спонтанно вскипающего энтузиазма и полнейшей неспособности отличить хорошую идею от плохой. И в те минуты, когда в нём просыпалось не свойственное ему критическое мышление, когда даже он приходил в уныние от бесконечного парада сотворённых катастроф, он находил утешение в том, что это всё не его вина. Его создали с какой-то полезной целью, и однажды он выяснит, в чём его предназначение. И уж когда он выяснит – то будьте спокойны, он не подведёт. Они ведь сказали, что он совершенство! Всё будет...
Уитли снова свернулся в клубок, не выпуская коврика из рук и коротко, порывисто раскачиваясь. Глубоко в затылке засела неприятная тянущая боль.
Белые халаты. Больной долговязый фикус, тоскующий по солнечному свету в царстве тусклых флуоресцентных ламп. Вода на белых плитках. Блеск иглы. Яркий бумажный комок, смятый в ладони. И… и...
-Нет… нетнетнетнет, пожалуйста...
Теперь всё стало на свои места. Всё обрело смысл. Это правда. Да Она ведь ему человеческим языком сказала, а он отказывался слушать, снова и снова пропускал Её слова мимо ушей, предпочитая считать их очередной наглой ложью.
«Ты дурак, которого они сконструировали, чтобы сделать меня идиоткой».
О, он превосходно годился для этой работы, не так ли? И всё же недостаточно хорош, чтобы в ней преуспеть, где уж ему! Стоит ли удивляться, что он не справился с Комплексом, хотя власть и могущество были преподнесены ему на блюдечке? Стоит ли удивляться, что он даже теперь ни на что не способен, что он просто болтается тут без цели среди людей...
-Но почему, почему?! Так нечестно! Они... Они сказали, что я… Они подарили мне наклейку!
Они наврали.
И он ничего не хотел об этом знать, но даже для этого было слишком поздно. Он всё понял. Он даже не настоящий робот, как другие модули, как Кевин, как Она. И он не человек. Он никто. Создан быть бесполезным, отвлекать, мешать и путать. Пригоршня песка, брошенная в высокоточный механизм совершенной машины.
Модуль Смягчения Интеллекта. Специально сконструированный паразит, тормозящий любого, к кому он подключён. Опухоль, мешающая мыслительному процессу нескончаемой болтовнёй и потоком дурацких идей. Ужасней всего то, что человек из его воспоминаний – тот, который говорил его голосом и выглядел точь-в-точь, как теперешний аватар – он ведь в части понимания мира тоже был далеко не гений– не Эйнштейн, не Хокинг, не… не Челл – но он был самим собой, он был полноценным, и в нём било через край это необузданное человеческое «почему бы нет?» Он творил всякие сумасшедшие вещи просто потому, что ему хотелось их творить. Уитли ненавидел его, о, как же он его ненавидел, этого самодовольного гада с его лицом, человека, чьи воспоминания блуждали в его подсознании и пробирались в сновидения, одним своим присутствием словно глумясь над ним теперешним – подделкой, нелепой пародией.
Он перевернулся, вытянувшись на коврике. Коврик был хороший, плоский, удобный и успокаивающий. Можно было не бояться понизить его интеллектуальный уровень. Сколько там у коврика мыслительных способностей... Наверняка он не посчитает Уитли обузой и, не испытывая особых неудобств, продолжит исправно выполнять свои ковровые функции. И если Уитли пообещает вести себя тихо, то коврик, может, разрешит ему остаться. Так они и будут лежать – покуда коврик не перестанет быть ковриком. Или пока Уитли не перестанет быть собой.
Последнее предпочтительнее.
По прошествии неясного промежутка времени Уитли ощутил некий дискомфорт. Что-то упёрлось ему в лопатку, усугубляя навязчивую необъяснимую боль в затылке. Он вяло пошарил под диваном и нащупал плоский металлический прямоугольный предмет... а ещё – петлю чего-то гибкого и длинного, выскользнувшего из-под дивана, когда он терзал коврик. Он обернулся, приподнявшись на локте, чтобы взглянуть на источник своего беспокойства – и изумлённо вытаращил глаза.
За последнее время Уитли во многом разуверился. Когда-то он был уверен, что застрял в космосе на веки вечные, или что он никогда не сумеет передвигаться без направляющего рельса или посторонней помощи – расставаться с такого рода убеждениями сплошное удовольствие. И напротив, потерять всякие основания верить, что он может приносить пользу хоть на каком-нибудь поприще, или что в итоге всё будет хорошо – попросту невыносимо. Но, тем не менее, на свете ещё оставалось нечто, в чём он был абсолютно уверен: аппаратный интерфейс «Эперчур Сайенс» он узнает с первого взгляда.
Медленно, как сомнамбула, он протянул руку и выудил из-под дивана чёрно-белый трёхштырьковый соединительный кабель.
Следующая глава